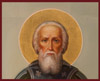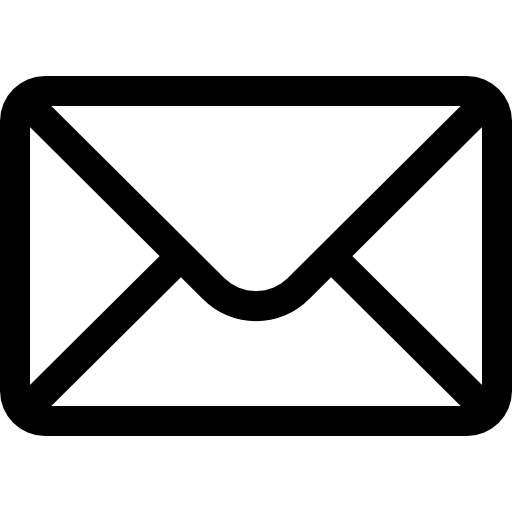Евфимий (Горячев), пресвитер, священномученик (1937)
Житие
Евфимий Никитич Горячев родился в селе Никольское-Барнуки Городищенского уезда Пензенской губернии 19 января 1884 года в бедной крестьянской семье. Ему было четыре года, когда умер отец, а вскоре после этого умерла и мать. Он был единственным мальчиком в семье и остался на попечении сестер.
В этом же селе жил его дядя Алексей Горячев с женой Александрой, крестной матерью Евфимия. У них было своих четыре сына, но они с радостью приняли мальчика в дом. Семья была богобоязненная, а Александра даже и среди своих православных односельчан отличалась глубокой религиозностью и рассудительностью. И местный священник советовал, бывало, кому-нибудь из прихожан, когда у тех возникали трудности в семье или с родственниками, или с близкими людьми, когда для правильного решения требовались опытность и рассудительность, пойти поговорить с Александрой.
У священника своих детей не было, и когда Евфимию исполнилось семь лет, он позвал Александру и сказал:
– Александра, отдай мне своего приемыша-крестника. Тебе тяжело. У тебя у самой четыре сына, а я его воспитаю.
Александра за это время полюбила кроткого сироту, который нравом был тих и послушен, но сочла, что дальнейшее воспитание в доме священника будет для мальчика полезней, – и согласилась.
Священник отдал учиться Евфимия в сельскую школу, а затем определил в двухклассную школу, которая в тот год была преобразована в семинарию. Живя в семье священника, Евфимий ничем не отличался от крестьянских детей – одевался, как и они, и так же, как и они, ходил в лапотках. Кто знает, – думал священник, – в каких обстоятельствах придется жить мальчику, не имеющему поддержки от родителей. Он считал, что юноше полезно с раннего возраста обучаться навыкам самостоятельной жизни. Учась в семинарии весьма прилежно, Евфимий уже сам зарабатывал, давая уроки в семьях, где родители были побогаче, а дети поленивей. По окончании семинарии Евфимий поступил учителем в школу села Архангельского. Здесь он проработал семь лет и совсем обжился. Село было крестьянское, но в трех верстах от него была железнодорожная станция Чаадаевка, здесь жили семьи служащих, купцов и тех предпринимателей, которые легко находили в дореволюционной России применение своим талантам и трудолюбию. Образованной молодежи сходилось вечерами человек по восемнадцать. Евфимий Никитич, как человек веселый, общительный и к тому же хороший танцор, быстро стал душой местного общества. Здесь он едва не женился. После нескольких лет учительства Евфимия в эти места приехало семейство Поповых. Это были люди состоятельные, они построили лесопильный завод, имели в городе большой дом, капиталы в банке. При этом они были людьми глубоко религиозными и не пропускали ни одной праздничной или воскресной службы. И, пожалуй, больше, чем материальный достаток, они ценили духовную настроенность человека. И потому, познакомившись с местной молодежью, которая стала собираться у них в доме, пожелали свою единственную дочь отдать за Евфимия Никитича, человека хотя и бедного, но благонравного и верующего. Не против была и сама дочь, нравилась и она Евфимию. И местный священник, Александр Федоров, советовал Евфимию жениться на ней. И жена дяди, Александра, говорила: «Зачем упускать свое счастье – женись на ней». Но ее богатство и то, что за ней давали большое приданое, смущали его. Казалось бесчестным жениться на богатой невесте, не хотелось, чтобы люди поминали потом, что он из-за денег женился. Жалованья Евфимий получал тогда восемнадцать рублей, иных доходов у него не было, а этих денег только и хватало, чтобы прожить одному. И брак не состоялся.
Вскоре начальство предложило Евфимию перейти из Архангельской школы в Воскресенско-Лопуховскую, в двадцати пяти верстах от Пензы. Условия были выгодные: двадцать рублей жалованья и восемнадцать рублей пятьдесят копеек за уроки пения и управление церковным хором. В Архангельском вся квартира состояла из одной комнатки, а здесь предлагали пять комнат. По тем временам жалованье и условия были настолько хороши, что на эти средства уже можно было содержать семью. Поскольку жениться на дочери Поповых Евфимий отказался, то дядя с тетей советовали жениться на дочери Константина Кирьянова – Александре. Они торопили с женитьбой, так как считали небезопасным несемейное проживание молодого человека, которому приходится общаться на службе с молодыми женщинами, и очень опасались, как бы его кто не увлек.
Константина Владимировича Кирьянова Евфимий знал с раннего детства, и в чем-то судьбы их были похожи, отчего, может быть, они и любили друг друга. Константин воспитывался в семье своего деда, которого звали Кириан. Дед был строгим, но справедливым, и все сыновья и внуки беспрекословно его слушались. Константин был самым меньшим внуком. И вот когда старшие стали собираться в школу, Костя увязался за ними.
– Что это вы, ребенка привели? – спросил учитель.
– Я не ребенок, я буду учиться, – ответил Костя.
– Да ты же еще маленький учиться, тебе года два подождать надо, – возразил учитель, но все же решил оставить его – пусть попробует.
А Костя оказался на диво способным, быстро выучил алфавит и научился читать, затем стал писать по заданию учителя сочинения – и тоже исправно. Учитель решил записать его в число учеников и спросил:
– Ты чей? Как твоя фамилия? С кем ты живешь?
Дети загалдели вокруг:
– А это деда Кирьяна внук.
Так учитель и записал: «Кирьянов».
Крестьяне в тех местах небогаты, семьи большие и поставить всех детей на ноги нелегко, так что многим и не по силам было отдавать детей в школу. А Кирьяна внук, хотя мал годами, а грамоте был научен, и стали к нему ходить крестьяне с просьбами: «Костя, напиши прошение... Костя, напиши письмо...»
Дед ему в этих случаях всегда говорил:
– Костя, к тебе с просьбой пришли, садись за стол и помоги людям. Ты же знаешь, что творить добро – это самое главное дело в жизни.
Константин вырос, стал красивым молодым человеком, женился, работать устроился к богатому купцу Пилибину. И стал замечать купец, что Константин работящ и смекалист, а, главное, честен, что в торговых делах среди русских купцов до революции почиталось качеством наисущественнейшим: оно и деньги бережет, и за деньги его не купишь. И стал купец ему поручать ответственные торговые дела и большие суммы денег. И наконец отделил, чтобы Константин вел свое самостоятельное дело.
Евфимий Никитич вспоминал впоследствии:
«С дядей Костей Кирьяновым мы иногда у дяди встречались. Беседовали. Он выбился из страшной нужды, сам, собственными силами и только своей головой и умом. Видит, что и я из большой нужды встаю на прочную дорогу, настолько верную, что моя, пожалуй, выше и прочнее, чем его... И говорит однажды:
– Нет, Ефим Никитич, не говорите, а ваше богатство козырнее и прочнее. У меня в один момент может все пропасть, а у вас вечный кусок хлеба, вечное богатство!
– Ну уж и нашли богатство! Да я весь тут. И кроме того что со мной, у меня ничего нет!
– Что ж? Вы сами-то весь золото. Если нас с вами поставить на чаши весов, то вы один меня перетянете со всей моей требухой, то есть с моим богатством!»
Уговоренный родственниками, Евфимий поехал посмотреть свою будущую невесту, Александру. Увидел, что нисколечко она его не любит и навряд ли полюбит, не такого ей надо. И роем поднялись мысли: «Хоть ты и обещался дяде с тетей и Константину Владимировичу, не смущайся этим! Беги! Ведь на всю жизнь хочешь связать себя. Лучше какой угодно скандал, но не связывай себя на всю жизнь. Много будешь страдать, это только начало!»
После отъезда Евфимия Константин Владимирович дочери бесповоротно сказал:
– Мое отцовское желание – я тебя замуж отдам только за него.
– Папочка, лучше я умру, но не пойду за него!
– Это отцовская воля! Пойдешь!
– Не пойду!
Не стал отец ее убеждать – время само убедит. А если не время, то вожжи.
Через несколько месяцев пришла пора окончательно решать, но Александра никак не хотела выходить за Евфимия. Было ей тогда всего лишь пятнадцать лет, она считала себя красавицей, была избалована и выйти замуж за нелюбимого человека, не красавца и небогатого, казалось ей настоящей каторгой. Упала она перед отцом на колени и стала упрашивать, чтобы он не выдавал ее за Евфимия. Константин принес вожжи, с силой ударил дочь несколько раз, она закричала:
– За кого хочешь отдай, только не бей!
Александре несколько месяцев не хватало до шестнадцати лет. Написали прошение архиерею, тот благословил совершить венчание, и 9 февраля 1909 года их повенчали. Размолвки между ними начались сразу. Теперь, став женой нелюбимого человека, она, как в отместку, не только ему это показывала, но и окружающим. Если шли в гости, то Александра старалась сесть за стол рядом с кем-нибудь, только не с мужем. Если возвращались из гостей, то садилась в повозку или в сани с кем-нибудь – с мужчиной или с женщиной, безразлично, но только не с мужем. Люди это, конечно, видели, и для самолюбия Евфимия такие уколы были весьма чувствительны. И ничего нельзя было сделать, только терпеть, и Евфимий терпел. Александра не любила своего мужа, но в супружестве была ему верна, и когда появились дети, полюбила их со всей беззаветностью материнской любви. Единственный, пожалуй, недостаток в ней, который тревожил Евфимия, была ее неглубокая вера: никогда он не видел ее молящейся со слезами или так, чтобы она обо всем, кроме молитвы, забыла.
Между тем среди молодежи начинали затеваться сходки и кружки, пошли разговоры о социализме, выказывалось все большее недовольство монархическим строем, от сытости жизни и благополучия многим хотелось перемен, хотя бы и революционных. Но главное, что происходило тогда среди образованной молодежи, – это обмеление душ, угасание тяги к духовному, а отсюда невосприимчивость церковных обрядов, непонимание их. С беспокойством смотрел на это священник, воспитатель Евфимия.
Знал, как легко увлекает приятельская молодежная среда на путь заблуждений, вся прелесть которых в неиспробованности их. И он решил поговорить с Евфимием.
– Мое последнее великое желание, чтобы ты выбрал духовный путь, стал священником, – заключил он беседу.
Евфимий согласился, и в 1911 году поступил на пастырские курсы в Москве. Проучился он девять месяцев, и в марте 1912 года был рукоположен в сан священника с назначением в сибирское село Ново-Новоселово.
С трепетом сердечным ехал о. Евфимий в родное село молодым батюшкой, страшась уронить себя, растерять ту божественную благодать, которую он получил в таинстве священства. Уже он отчетливо ощущал, что теперь он не простой человек, а Божий служитель.
Сразу же по приезде в Барнуки пришлось быть на свадьбе у родственников, и здесь Александра снова при гостях показала, что нисколько не любит и не уважает своего мужа, хотя теперь и священника.
Тяготы домашней жизни и непонимание женой были как бы червоточиной в сердце, постоянной болью, но он старался преодолеть это в себе, для чего быть прежде всего священником. Причем открылись в нем большие проповеднические дарования, так что крестьяне за сто верст приглашали его, снаряжали подводу и привозили, чтобы только послушать.
Начав служить, о. Евфимий, сам выросший в бедности, не мог смотреть равнодушно и на чужую нужду. И за требы, если крестьяне были бедны, никогда ничего не брал. Поначалу весь доход его был – принесет кто из крестьян крынку молока или немного яиц, но и это домашним приходилось утаивать от него, а если узнает, то обязательно скажет:
– Зачем же вы взяли? У них у самих нужда!
Если видел кого нуждающимся, да еще если семья потеряла кормильца, то в этом случае он отдавал и свое последнее. Очень скоро он и его семья стали испытывать большую нужду. Но о. Евфимий не унывал, добывая средства к жизни наравне со своими прихожанами крестьянским трудом.
Прослужив пять лет в селе Ново-Новоселово, о. Евфимий 11 марта 1917 года был назначен в Никольскую церковь села Большой Улуй. Здесь, в Красноярском крае, вблизи города Ачинска, прошла почти вся его священническая жизнь. Прихожане любили о. Евфимия за бескорыстие, за его верность Богу и Православной Церкви и за проповеди, которые он говорил не заученными раз и навсегда словами, но из глубины сердца, прилагая к произносимому свой духовный опыт. Когда перед исповедью он говорил проповедь о покаянии, о его благодатных дарах, о грехах, отдаляющих человека от Бога, то прихожане становились на колени, и многие, не стыдясь, плакали вслух, сокрушаясь о своих грехах.
5 ноября 1917 года состоялось собрание прихожан одного из благочинии Ачинского уезда, на котором о. Евфимий был избран благочинным. Этот год был началом всероссийской смуты. Смерть могла войти в каждый дом.
«В начале 1919 года, – вспоминал о. Евфимий, – стали расползаться слухи, втихомолку сначала и более смело и настойчиво потом, что между Ачинском и Большим Улуем оперирует какая-то группа, банда, отряд и т. п. Этот отряд многих едущих в Ачинск или оттуда не пропускает, некоторых грабят, а некоторых и убивают. Базой этого отряда называли деревню Лапшиху. Потом все чаще и чаще в устах народа стала раздаваться фамилия Щетинкина как начальника отряда, оперирующего в нашем районе, но еще не бывавшего в Большом Улуе. В конце января или в начале февраля один из граждан села Ново-Еловского привез мне записку, в которой говорилось, что их священник Владимир Фокин взят неизвестными людьми и отвезен в деревню Лодочную. В это же время или немного позднее донесли до меня весть о том, что убит кем-то и еще один священник моего благочиния – священник села Петровского Михаил Каргополов, бывший до принятия сана священника офицером казачьих войск.
В это время некоторые из священников переехали в город Ачинск, в некоторых приходах не было священников, некоторые священники не ночевали у себя дома, а у кого-либо из своих прихожан. Проснувшись однажды утром, я узнал, что наше село Большой Улуй занял со своим отрядом Щетинкин и мы находимся в его власти. Многие из моих прихожан предостерегали меня, чтобы я поберегся – не ездил бы в другие приходы с требами, не выходил бы ночью и т.п. Но я продолжал жить обыкновенной жизнью. Выпадов от лиц отряда Щетинкина против меня тогда как будто не было, по крайней мере, я ничего такого не слышал. Приходилось мне сталкиваться как с представителями отряда Щетинкина, так и с ним самим. Однажды был такой случай. Дело было зимой перед масленицей. За мной приехал на лошади крестьянин нашего села Алексей Киселев и сказал мне, что меня требует Щетинкин. Семейные мои ударились в слезы. Я сейчас же собрался и поехал. Привез он меня в дом местного жителя Тихонова.
Полон дом был членами отряда Щетинкина. Меня провели в другую комнату. Здесь сидели в два ряда соратники Щетинкина с винтовками и штыками на них. Между ними был прямой проход к передней стене, где за столом, как я догадался, сидел сам Щетинкин. Он пригласил меня сесть, и у нас с ним произошел следующий разговор:
– А на вас, батя, жалоба!
– В чем дело?
– Вы отказались повенчать сына одного гражданина Красновского прихода.
– Раз отказался, то значит была причина к этому. Или жениху не доставало лет до определенного возраста, или у него нет надлежащих документов.
– Нет, у него документы есть, но от нотариуса, а вы требуете метрику.
Я припомнил данную просьбу ко мне и сказал:
– Я его по нотариальным документам повенчать не могу.
– Но почему же? Я сам венчался по нотариальным документам!
– В подтверждение ваших слов могу добавить, и я венчался и венчаю по таким же документам, но этого гражданина повенчать не могу!
– Почему?
– По нотариальным документам можно повенчать только лиц, родившихся в России или вообще в отдаленных местах, указанный же гражданин рожден здесь и крещен в Красновской церкви. Нам же известно, как составляются нотариальные акты. Поехал, допустим, гражданин в город на базар. Берет там первого попавшегося знакомого, поит его водкой и просит его пойти к нотариусу и засвидетельствовать, что его сыну девятнадцать лет. Тот, не зная сына этого и ни разу не видя его, идет к нотариусу, и они пишут надлежащий акт. Вот вам и документ. А нашего брата, попа, потом тянут, ибо установляется, что повенчанному всего лишь шестнадцать лет. Когда субъект не здесь рожден, то я не отвечаю. Если же он рожден здесь, то отвечаю я за неосторожность и отвечаю довольно серьезно перед своим начальством.
Щетинкин рассмеялся.
– А ведь ты, батя, правду говоришь, я сам знаю случаи, когда ваш брат венчает чуть ли не двенадцатилетних по этим документам. Но как же быть? Ведь вы знаете, что в Красновой нет ни попа, ни псаломщика, кто же там напишет метрику?
– Я давал записку к церковному старосте, в которой просил его отпустить из церковного архива метрическую книгу за такой-то год, но жалобщик, очевидно, не нашел нужным сделать так, как я ему предлагал, а предпочел обратиться с жалобой к вам.
– Как же, батя, быть? Хочется удовлетворить мужика. А что, если я вас, батя, попрошу повенчать по имеющимся документам?
– А я вас, Петр Ефимович, прошу не просить меня об этом. Что же будет, если я вас буду просить о делах, касающихся ваших дел, а вы меня будете просить о моих поповских делах? Получится одна путаница.
Щетинкин снова рассмеялся.
– Эка ты, батя, какой несговорчивый. Ну, а если я сам напишу эту метрику, когда буду в Красновой?
– А я вам дам бланк для этой метрики, и когда вы ее напишите, то как вы не поп и не псаломщик, то пусть эту метрику подпишет еще кто-либо, что она с подлинником верна.
– Ладно, так и решим! Эй, дядя, собирайся сейчас с нами, и я тебе выдам нужную метрику! До свидания, батя!
Метрика вскоре была прислана и брак повенчан. В другой раз меня водили к Щетинкину за то, что я отказался повенчать брак из другого прихода на масленой неделе, ибо в эти дни по уставу Церкви браковенчать нельзя. Щетинкин, разобравшись в этом деле, со смехом сказал жалобщикам:
– Слушайте, братцы, я ведь не архиерей, как же я могу впутываться в эти дела?
В следующий раз Щетинкин на сходке просил моих прихожан, чтобы они отпустили меня с ним в село Краснове, чтобы я там послужил неделю для красновских постников. Но мои прихожане меня не отпустили: «У тебя, Петр Ефимович, ребята озорные. Взять-то ты у нас попа возьмешь, а вернешь ли его обратно?» Щетинкин на это рассмеялся и меня в Краснове не взял.
Но вот с первых недель Великого поста поползли слухи, конечно, шепотом, что из города Енисейска идет какой-то казачий карательный отряд, который уничтожает большевиков и все предает огню и мечу. У меня был тесть, приехавший из России. Однажды вечером он выходит из кабинета и говорит:
– А что-то неладное. Выскочили из переулка какие-то люди и направились сюда, к церкви. Они что-то тащили за собой на санках. Оглянулись боязливо по направлению к волости и пошли туда, а один направился как будто к нашим воротам.
В это время отворилась дверь и вошел незнакомый человек.
– Здесь есть красные?
– Нет, кажется, нет.
– Давно они ушли?
– Не знаю!
– Мы казаки карательного отряда. Преследуем красных вообще, и, в частности, отряд Щетинкина. Вы священник местный?
– Да.
– Командующий отрядом распорядился, чтобы в вашем доме для него и его штаба была квартира. Приготовьтесь!
– Возражать против этого, конечно, не приходится, но я бы просил, нельзя ли вам занять другой дом, более поместительный? У меня пятеро ребятишек, все они очень малы, вы их у меня затопчете.
– Ладно, скажу об этом полковнику, но вы, может быть, пойдете и покажете мне более поместительные дома.
Я собрался и, выйдя на улицу, показал ему на здание волости и дом Климовского, куда он и направился.
В это время на улицах было уже очень много казаков. Походив около своего дома, я направился к зданию волости и дому Климовского, которые были расположены через дорогу друг от друга. Казаки толпились больше около дома Климовского. Я вошел в дом, там было много казаков, и в особенности, судя по виду, казачьих офицеров. За это время стемнело. Потолкавшись в толпе, я направился домой. По пути я встретил жителя села Новоселова Черемнова, который был избран заместителем председателя волисполкома при Щетинкине. Он стал просить меня, чтобы я заступился за него, если к тому представится случай, перед казачьим начальством. Я это ему обещал, даже высказал ему уверенность, что его, Черемнова, ничто худое не ожидает, ибо он был, как мне было известно, на очень хорошем счету у населения. Придя домой, я увидел, что моя квартира полна казаками, их командным составом во главе с полковником, и посторонним народом. Полковник был в верхней одежде, увидев меня, он пошел ко мне навстречу.
– Вы, батюшка, вероятно, хозяин здесь? Мы извиняемся, что наделали вам беспокойств своим присутствием или, вернее, вторжением, но видя, что у вас нам и вам при нас будет не совсем удобно, мы решили перекочевать в другую квартиру.
Я ненадолго остановил его и тут же попросил его быть снисходительнее к населению вообще и к виновным в частности. В особенности стал просить за гражданина Черемнова, указавши на то, что он пользуется уважением и симпатиями населения и, по моему мнению, вряд ли способен на что-либо дурное. Полковник успокоил меня, сказав, что во всем разберется и невиновные не пострадают за эту ночь. С этими словами он удалился, а вместе с ним удалились все посторонние. Остались одни мои семейные. Но мне не терпелось. Я снова оделся и пошел в дом Климовского, где, как я и предполагал, остановились штаб и полковник. Там было полно народа. Я протискался в дом, а потом вместе с другими в верхний этаж дома, где, как потом я узнал, уже началась расправа. Входя по лестнице в верхний этаж, я услышал громкий ужасный крик. Только что я отворил дверь, как услышал:
– Да меня вот и батюшка хорошо знает! – Это говорил житель деревни Баженовки Григорий Кириллович.
Ко мне обратился казак, стоящий около него, с вопросом, действительно ли я знаю этого гражданина и с какой стороны. В это время Григория Кирилловича потребовали к полковнику в другую комнату, куда вместе с ним направился и я. Я сказал полковнику, что Григорий Кириллович мне хорошо известен, имеет большую семью, ни в чем предосудительном не был замечен, но ввиду того, что на войне был фельдшером, Щетинкин мобилизационным порядком принудил стать фельдшером в его отряде.
– В чем его вина? – спросил полковник.
– Мы сейчас встретили его на дороге. Он ехал в Улуй. Мы его окликнули. Он нам ответил: «Свой, товарищи!» – Мы его и привели сюда.
– Отпустите, пусть идет, куда хочет, а ты молись Богу за батюшку, если бы не он, то получил бы и ты горяченьких.
В это время ввели двоих ребят лет по двадцати, моих прихожан из деревни Сучковой. Я сейчас же вступился за них, говоря, что их хорошо знаю, это хорошие ребята и т.д. Но полковник не дал мне договорить:
– Батюшка, не будем мешать друг другу. Вам, поверьте, не место здесь, лучше будет, если вы пойдете домой!
Не успел он это проговорить, как я оказался не то выведенным, не то вытесненным за дверь, за которой вскоре раздались снова крики и вопли. Я постоял. Рванул дверь, но ее, очевидно, держали. Снова постоял. Сбежал в нижний этаж и, не заходя в комнаты нижнего этажа, поплелся тихо к себе домой.
Не помню, спал ли я эту ночь. Рано утром, до солнечного восхода, я снова отправился к дому Климовского. Между домом Климовского и зданием волисполкома начинается ров и по нему дорога на реку Чулым. Почти на дороге лежали два трупа, раздетые и растрепанные. Один выше, на покатой стороне рва, другой ниже, в самом рву. Около верхнего стояла и хрюкала свинья. Вдруг эта свинья схватила зубами за плечо труп и начала трясти головой и рвать его зубами. У меня от этой картины буквально как бы перевернулись все внутренности. Я бросился в дом Климовского в надежде выпросить у полковника позволение убрать трупы. Но у дома Климовского мне сказали, что полковник и его штаб перешли ночью на другую квартиру. Я направился туда, но там мне сказали, что полковник спит. Я заметался по улице, пробежав торопливо к своему дому и обратно к квартире штаба несколько раз. В это время я заметил еще один растерзанный труп неизвестного мне человека. Я снова бросился к полковнику. Он встал и умывался. Я выпросил у него позволение убрать и похоронить трупы и спросил, что же ожидает село и его жителей? Он ответил:
– А ваш Улуй я сотру с лица земли. Весь выжгу, а население расстреляю, по крайней мере каждого десятого, считая баб и ребятишек!
– В таком случае, я надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе начать выжигать село с моей квартиры, а при расстреле начать с меня, деся&