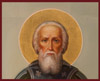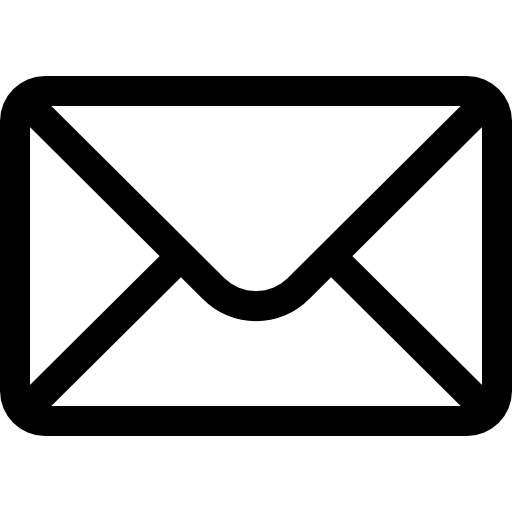Александр (Зверев), пресвитер, священномученик (1937)
Житие
Священномученик Александр родился 8 августа 1881 года в селе Фаустово Михалевской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Александра Григорьевича Зверева. В 1909 году он окончил Московскую Духовную академию и получил назначение на должность преподавателя истории русской литературы в Вифанскую Духовную семинарию. Женился на девице Марии, которая была дочерью протоиерея Алексея Лебедева, настоятеля храма Николая чудотворца в Звонарях на Рождественке. Впоследствии у них родилось трое детей. В феврале 1913 года Александр Александрович был рукоположен в сан священника. В это время он состоял преподавателем истории русской литературы и практического руководства для пастырей в Вифанской Духовной семинарии.
Летом 1918 года отец Александр переехал в Москву в дом умершего к тому времени тестя, протоиерея Алексея Лебедева, и стал служить в храме святителя Николая чудотворца на Рождественке. В сентябре 1918 года он был назначен помощником начальника Вифанских пастырско-богословских курсов Московской епархии, а в феврале 1919 года – настоятелем Никольской, что в Звонарях, церкви на Рождественке. В 1921 году отец Александр был назначен преподавателем Московских пастырско-богословских курсов по кафедре пастырского богословия. В том же году он был возведен в сан протоиерея.
В 1922 году протоиерей Александр был назначен помощником начальника Московских пастырско-богословских курсов.
28 февраля 1922 года Патриарх Тихон обратился с посланием по поводу помощи голодающим и изъятия церковных ценностей, где, в частности, писал: «Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство...»
Это послание было прочитано протоиереем Александром с амвона. В начале марта в Москве были устроены благочиннические собрания, на них постановили открыть столовые для голодающих, которые должны были содержаться на средства нескольких приходов. Столовая, которую обеспечивал приход храма святителя Николая в Звонарях, находилась на Большой Спасской улице. За приходом был закреплен воскресный день. Столовая была открыта 19 марта и действовала в течение нескольких месяцев. В свой день приход кормил в столовой сначала около ста человек, а затем их число дошло до двухсот.
С апреля 1922 года ОГПУ стало производить аресты и готовить судебные процессы по обвинению духовенства в сопротивлении изъятию церковных ценностей. По одному из процессов был привлечен к ответственности протоиерей Александр, его обвинили в чтении в храме послания Патриарха Тихона. 11 июля 1922 года сотрудники ОГПУ произвели в его доме обыск. 2 сентября ОГПУ вызвало отца Александра на допрос.
Выслушав вопросы следователя, отец Александр написал ответы на них собственноручно: «...К посланию Патриарха отношусь отрицательно, нахожу, что правила приведены не к делу.
Привлекаюсь к суду за агитацию Патриаршего воззвания, которая с моей стороны и состояла в том, что я единственный раз с амвона в конце службы, к моему сожалению, прочитал его...
Идеологию «Живой церкви» признаю; проведение же в жизнь некоторых ее постановлений из боязни вызвать раскол находил бы лучшим проводить постепенно...»
После допроса он был освобожден.
В декабре 1922 года отец Александр предстал вместе с другими священнослужителями и мирянами перед революционным трибуналом по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Протоиерей Александр виновным себя не признал. Революционный трибунал приговорил его к двум годам заключения в исправительно-трудовом лагере. После семи месяцев нахождения в заключении отец Александр был освобожден по амнистии и вернулся служить в Никольскую церковь на Рождественке. В 1929 году протоиерей Александр был награжден митрой.
Духовная дочь отца Александра вспоминала о нем. Отец Александр служил благоговейно, просто и смиренно, его служение поражало ощущением его живого предстояния Богу, Которому он со всей полнотой любви приносил прошения о всех предстоящих и молящихся в храме. Все люди, стоявшие в храме, были ему необычайно дороги, буквально каждый.
Иногда после вечерней службы отец Александр говорил несколько слов о силе молитвы, о том, что самое большое и действенное – это молитва, и об этом никогда нельзя забывать. И самое главное – это Иисусова молитва. Своей пастве он дал правило: утром и вечером читать сорок раз молитву Иисусову, затем двадцать раз «Пресвятая Богородице, спаси нас» и десять раз «Все святые, молите Бога о нас». Он говорил, что все работают, всем трудно, но это то, что каждый может сделать. «И я прошу вас, если вы помните меня и любите меня, исполните мою просьбу и примите это правило мое на всю свою жизнь».
Были грехи, которые отец Александр особенно умолял не совершать. Он говорил: «Надо покаяться. Надо оставить прежде всего прелюбодеяние, ибо Царствие Божие блудники и прелюбодеи не наследуют. Умоляю вас. Я ваш свидетель перед Богом. Призовет меня Господь, и я должен сказать Ему: “Се аз и чада мои, коих Ты даровал мне”. Что я скажу за вас там, если вы хотя бы не пожелаете это оставить? Господь намерения приемлет и желания целует. Милосердию Его нет предела... просите и получите... И Господь поможет, и вы будете всегда с Ним».
По-видимому, еще во время его заключения в конце 1922–начале 1923 года власти стали усиленно склонять его к негласному сотрудничеству с ОГПУ. Толкало их к этому то, что отец Александр, казалось, слишком легко готов был критиковать Патриарха и соглашаться с предложениями живоцерковников. В этом сотрудники ОГПУ увидели возможность добиться успеха, если давить на человека, который готов покривить душой ради освобождения. В конце концов отец Александр дал обязательство быть секретным сотрудником ОГПУ. Эти обязательства оказались для него чрезвычайно тяжелы, так как, вызываемый к сотруднику ОГПУ, которому он должен был говорить о состоянии умонастроения в приходе и своих прихожан, он в силу нравственных причин не желал говорить то, зачем мог последовать их арест, и в то же время он не мог отказать сотруднику ОГПУ говорить о своих знакомых, потому что это, как он считал, могло привести к немедленному аресту его самого. И потому он рассказывал о прихожанах, стараясь не компрометировать их в политическом отношении. Но среди того же круга людей были и другие секретные сотрудники ОГПУ, которые дали о том или ином событии и разговоре другие сведения, и в конце концов стало ясно, что священник уклоняется от обязанностей секретного сотрудника ОГПУ. Этого было достаточно для его ареста.
13 февраля 1933 года накануне празднования памяти мученика Трифона власти арестовали отца Александра и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Он был обвинен в том, что будто бы совместно с другими лицами «проводил систематическую антисоветскую агитацию, направленную к свержению советской власти».
16 февраля следователь допросил его, но отец Александр виновным себя не признал, сказав, что антисоветских разговоров в его присутствии не было. 8 марта следователь снова вызвал его на допрос и обрушился на него с упреками в неискренности, в ответ на это отец Александр сказал: «Взявши на себя добровольные обязательства быть секретным сотрудником ОГПУ, я дать ценные и нужные для ОГПУ сведения не мог, потому что добыть таковых я не мог. Среда, в которой я вращался, антисоветской деятельностью не занималась, и агитации против советской власти никто не проводил».
Однако показания, которые давали арестованные по тому же делу, были совершенно иные, и, желая оправдаться в неисполнении секретных поручений ОГПУ, отец Александр в конце протокола допроса собственноручно написал: «Все, что мог, к выяснению антисоветского настроения, как в приходе, так и вне, я делал. Когда одна женщина пришла..... (Вам это известно). Говорил и о вне прихода».
2 апреля 1933 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило его к ссылке на три года в Северный край. В ссылку ему было разрешено ехать за свой счет вольным порядком. Из тюрьмы его освободили в Великий Четверг и велели до Пасхи выехать из Москвы. Освободившись, отец Александр сразу же пошел в церковь. В Великую Субботу он отслужил раннюю литургию и в тот же день уехал. Пасхальную ночь отец Александр провел в поезде, а на второй день пасхальной седмицы прибыл к месту своего поселения – в старинный русский город Архангельской области Каргополь, где до революции было около тридцати церквей и два монастыря, а после революции этот благочестивый город был превращен в один из центров лагерей и ссылок.
Протоиерей Александр поселился в маленьком домике, принадлежавшем монахине Августе, которая в нем жила после закрытия монастыря. Дом был разделен пополам русской печкой. Хозяйка жила по одну сторону печки, а священник – по другую. В Каргополе протоиерей Александр пробыл три года, зарабатывая на жизнь пилкой дров, был рабочим, набивал силосную яму, молол ячмень.
В феврале 1936 года власти освободили отца Александра, и 19 мая 1936 года он получил место священника в храме Рождества Богородицы в селе Возмище Волоколамского района Московской области.
Протоиерей Александр был арестован на следующий день после престольного праздника в селе Возмище – Рождества Богородицы, 22 сентября 1937 года, и заключен в тюрьму в городе Волоколамске.
– Дайте показания о вашей контрреволюционной антисоветской деятельности, – потребовал следователь.
– Контрреволюционной антисоветской деятельности я не вел, – ответил священник.
– Следствие располагает данными, что вы летом 1937 года в церковной сторожке вели контрреволюционные и антисоветские разговоры, касающиеся политики советского правительства в связи с новой конституцией, в присутствии священника Павла Андреева.
– Это я отрицаю. Такого контрреволюционного разговора я не вел, за исключением разговора, который имел место летом 1937 года в комнате у меня. Он касался восстановления в должности учительницы Покровской, о чем была помещена заметка в газете «Правда», на которую я, прочитав, обратил внимание Андреева, сказав: «Как изменилась политика советского правительства по отношению к лицам религиозных убеждений». Но это мной было сказано не в контрреволюционном смысле, а как факт, связанный с вопросом о конституции. Что сказал по этому поводу Павел Андреев, я не помню.
И во время всех дальнейших допросов отец Александр виновным себя не признал. В обвинительном заключении об арестованных священниках и монахинях было написано: «Будучи допрошены в качестве обвиняемых, члены вышеуказанной контрреволюционной группы виновными себя в контрреволюционной деятельности не признали, но сознались, что они регулярно собирались у себя на дому и обсуждали религиозные вопросы, а также с целью религиозной пропаганды ходили по домам и вели агитацию».
2 ноября протоиерей Павел и 10 ноября протоиерей Александр были вызваны на последний допрос. Им был задан всего один вопрос, признают ли они себя виновными в антисоветской агитации. Оба священника ответили, что нет, не признают.
14 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священников Павла Андреева, Александра Зверева и Димитрия Розанова к расстрелу. Протоиереи Павел Андреев и Александр Зверев были расстреляны 16 ноября, а священник Димитрий Розанов 25 ноября 1937 года и погребены в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.